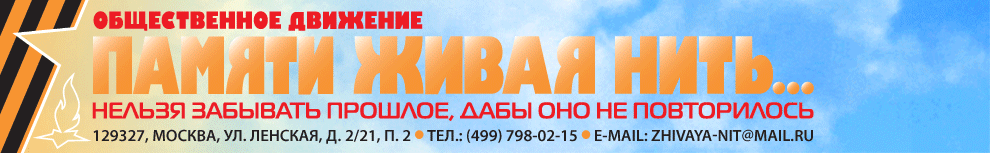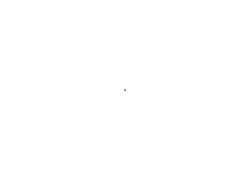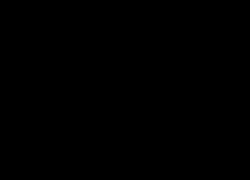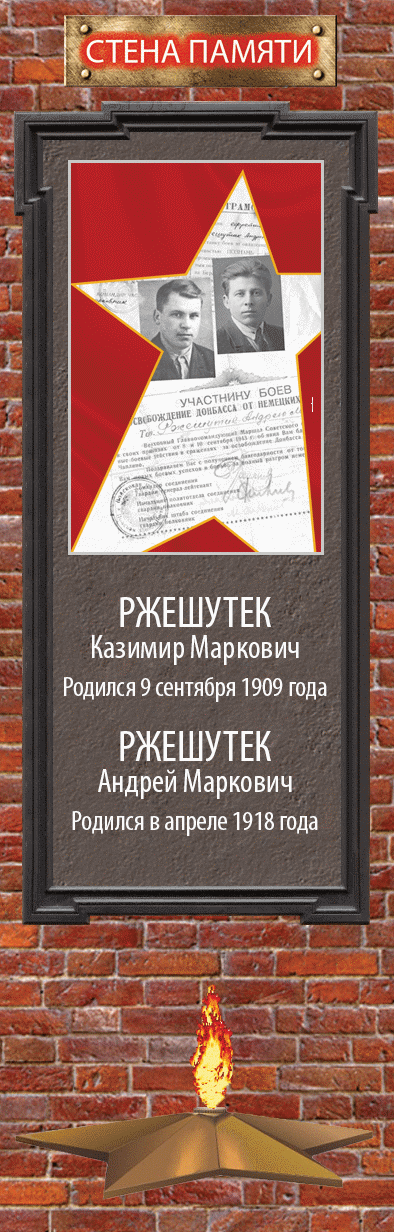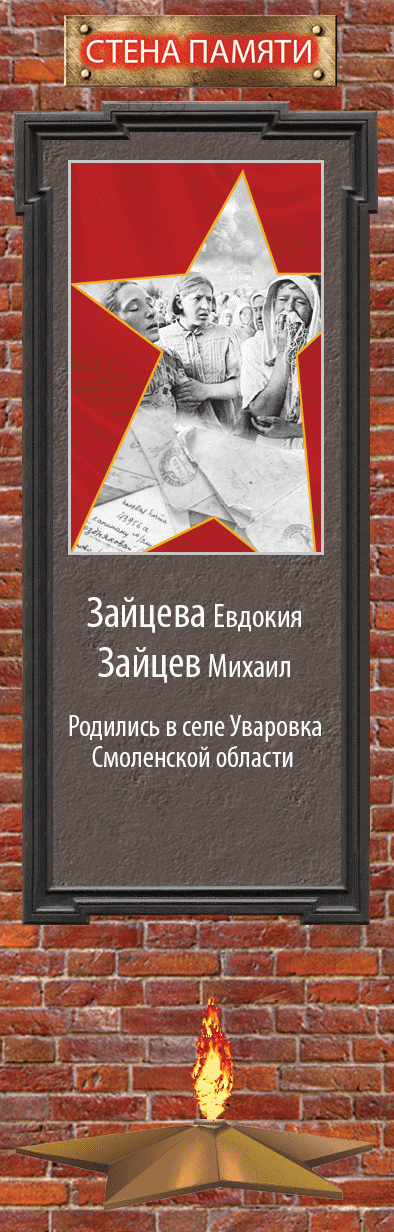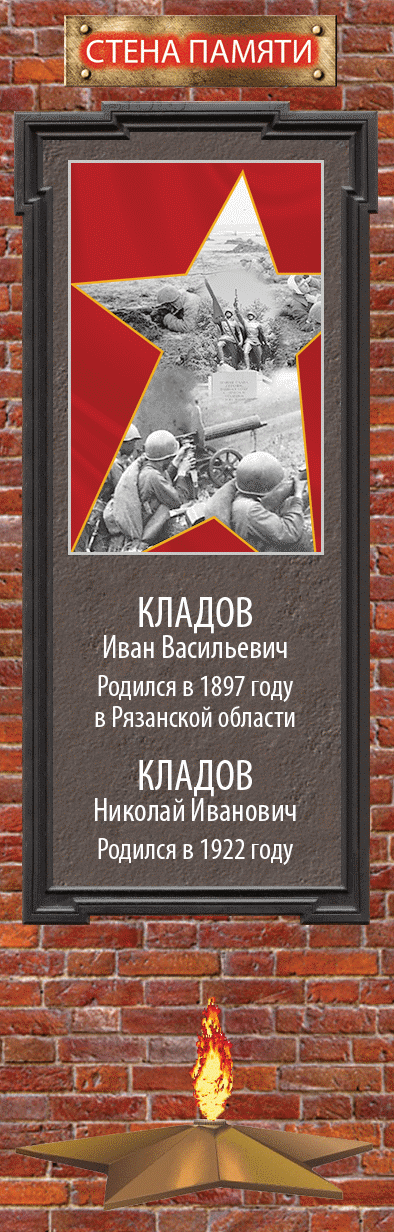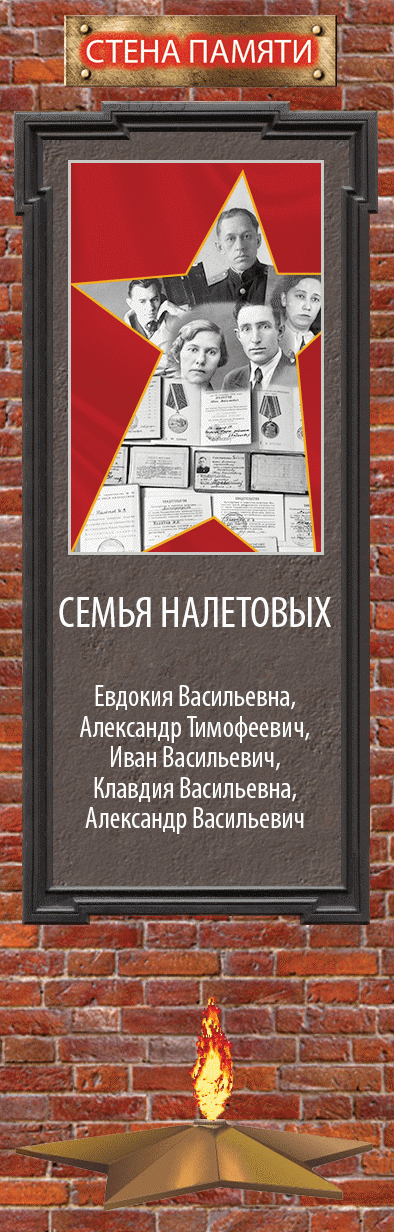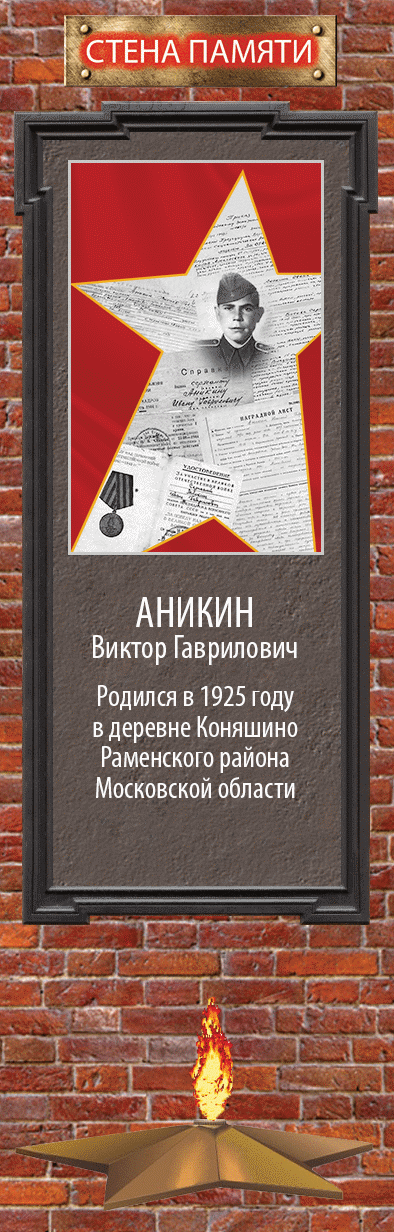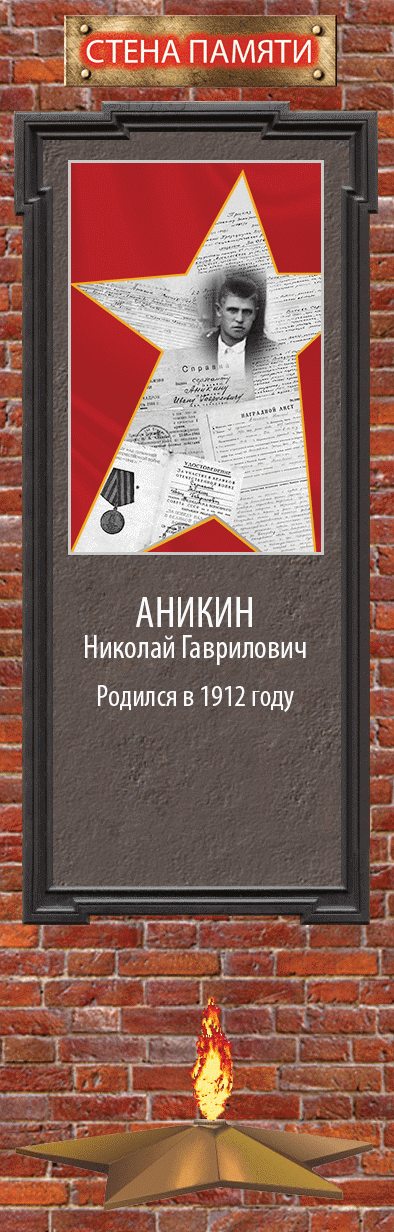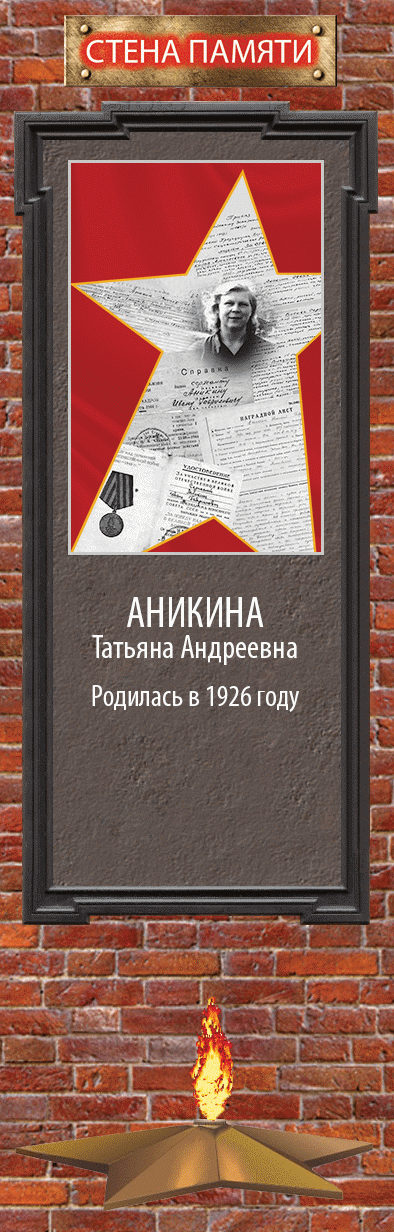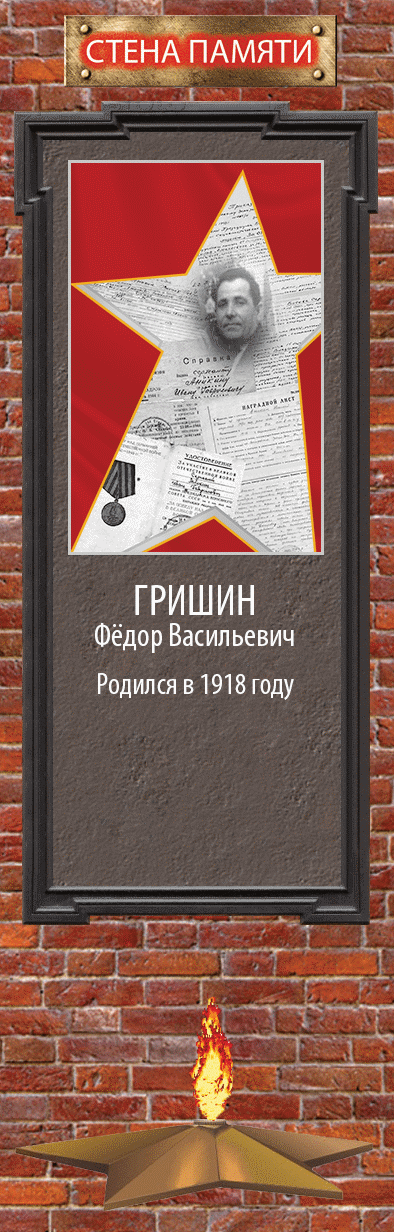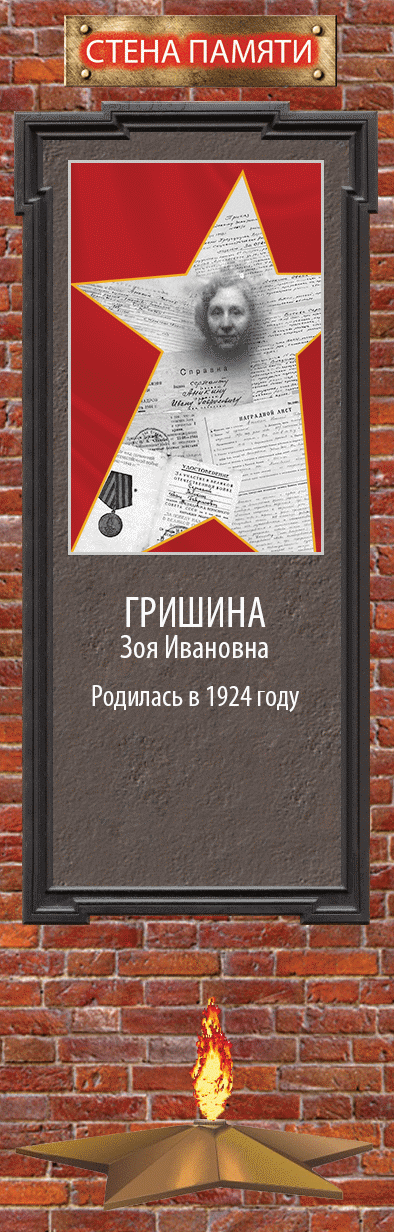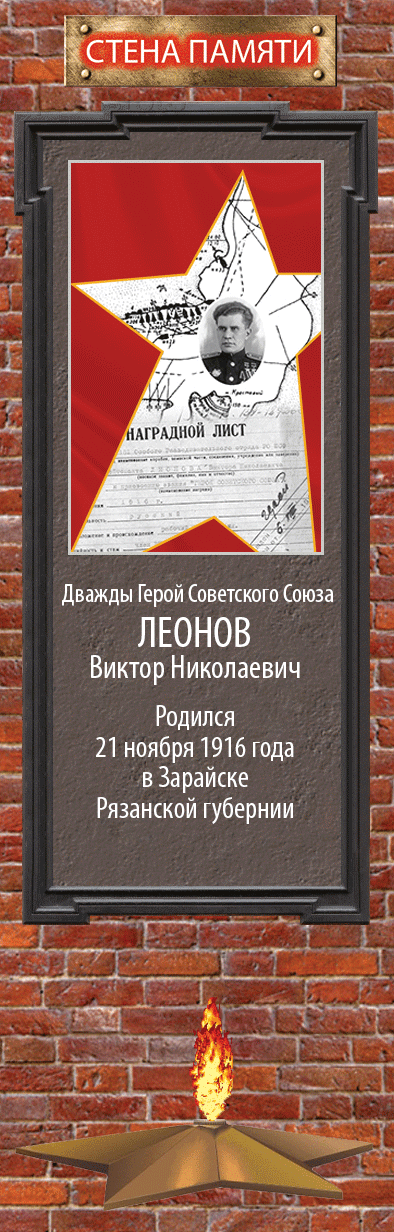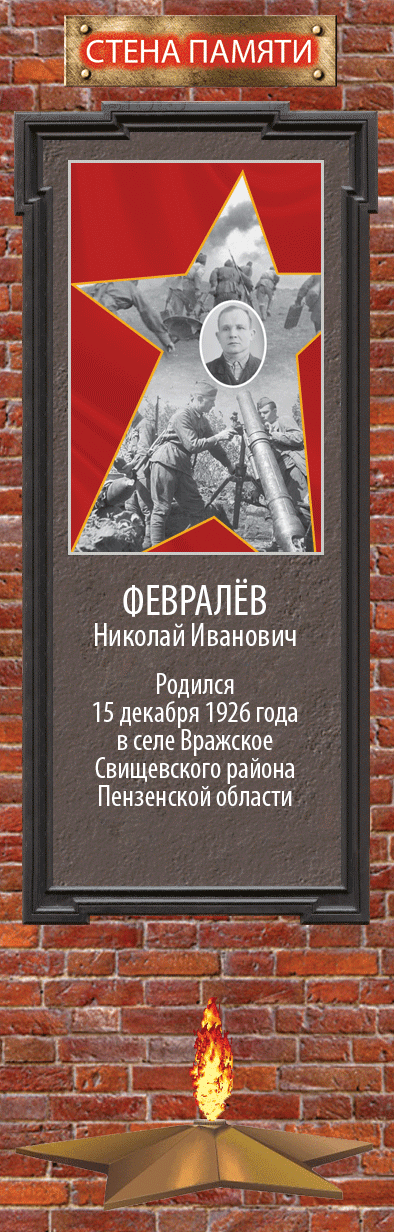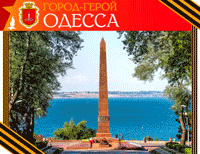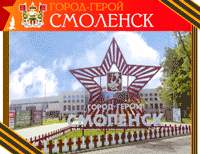Щукина Татьяна Никифоровна
Родилась 15 января 1893 года

Татьяна Никифоровна Щукина из Комсомольска-на-Амуре после войны была убеждена, что в Москве у Кремлевской стены похоронен ее погибший сын.
МАТЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
В солнечное, какое-то особенно уютное утро мы, ребятишки, высыпали на улицу кормить наших любимцев, Шариков. Дворнягами их не называли. Это были наши няньки, бонны, наши гувернеры. Они учили нас доброте, заботливости. С ними всегда было весело, и мы, детвора, получали от них ласку, которую так щедро расточают удивительные создания – собаки.
Шарики были пушистыми. Рядом с тайгой, в условиях первозданной экологии, никакой инфекции они распространять не могли. А в ста метрах далее начиналось загадочное царство, где обитали медведи, волки, соболи и другое симпатичное зверье. Кстати, был случай. Женщина копала картошку в огороде. Вдруг услышала сопение за спиной – медведь! Хозяин тайги принюхался, расшаркался (женщина была на сносях), взял в зубы картофелину и, добродушно пофыркивая, удалился. Мы, дети, не боялись тайги – бегали туда играть в лапту, жмурки, прятки. Шарики нас сопровождали, а тех, кто надолго задерживался, сердито гнали домой.
Принято пренебрежительно говорить о бараках. Что вы, тогда они казались хоромами по сравнению с землянками, в которых жили первые строители Комсомольска – «шеститысячники». Теплое, пахнувшее сосной сооружение. Большие комнаты, в каждой – русская печка, блиставшая белизной. По ночам мама пекла пироги с черемухой или морковкой (Шарики пребывают в радостном предвкушении). На подоконниках почти в каждой комнате стояли большие банки с красной икрой. Ее возили на лодках-оморочках, весело напевая, нанайцы с другой стороны Амура. Знакомый с детства запах кеты. Эта благородная рыба была в наших краях в меньшем дефиците, чем хлеб.
В тот июньский день 1941 года, выбежав беззаботно на улицу, я увидела толпу у репродуктора, откуда доносилось: «Без
объявления войны... Враг вероломно напал...» Люди стояли окаменев. И только самые маленькие из нас весело предвкушали начало какой-то новой большой «игры».
Из магазинов сразу исчезли соль, мыло, спички. Остались только крабы, рыба и детская мука. Вскоре исчезла и мука. На витринах, рядом с неизменными крабами, лежала горбуша, считавшаяся малосъедобной на фоне роскошной и доступной по цене кеты. В городе стало освобождаться жилье.
Мама за хорошую работу получила ордер на комнату в «элитном» двухэтажном доме с паровым отоплением. Где взять недостающую мебель? Комсомольск массово покидали семьи военнослужащих. И вот по объявлению мы с мамой пришли к одному полковнику. Продавались шифоньер и этажерка в стиле ретро, зеркало с замысловатым орнаментом и огромная кровать с затейливым изголовьем. А книг в нашей семье было немало, и каких! Несколько библий с иллюстрациями под папиросной бумагой, Лев Толстой, Пушкин, Стивенсон и Дефо, даже Есенин и Блок. Полковник оказался щедрым и добрым. Запустил руку в мои курчавые волосы. Приказал адъютанту пригнать машину. Всю эту роскошь мы без хлопот доставили в свое новое жилище, которое сразу приняло зажиточный вид. А великодушный военный в результате и денег с нас не взял!
Заводы моментально перешли на военную продукцию. Мама приходила домой измотанная – они неделями трудились без выходных. Часто и ночевали на заводе. «Мину под голову – и спишь, – рассказывала она, – а просыпаешься – нет «подушки», увезли на фронт».
Затем произошло неизбежное и страшное для нас. Мой брат получил повестку: срочно явиться на сборный пункт. А ему и 19 не было. «Золька, – сказал Сергей, собираясь уходить, – срочно дуй к маме на завод». На проходной меня встретили участливые женщины. Маму быстро нашли. Мы с ней помчались в военкомат. «Их уже погнали на вокзал», – сказали нам. И мы побежали по бесконечному шоссе, спотыкаясь и задыхаясь. Наконец впереди увидели колонну. Помню – совсем мальчишки, с тонкими шеями. Сергуню заметили сразу. Он высокий был, все оглядывался. Встрепенулся, увидев нас. На вокзале стояли товарные вагоны. Призывников оцепили, после переклички – сразу посадка. Брат все смотрел и смотрел на маму – с нежностью и недоумением, ну почему нельзя ее на прощанье обнять? Двери товарняков задвинулись. Потом на мгновение открылись, и мы вновь увидели родную голову на мальчишеской шее, глаза, смотревшие на нас.
Поезд двинулся.
Мама сразу как-то потемнела лицом, окаменела...
Когда пришло первое письмо от брата, я была дома одна. Разорвала конверт, стала читать: «Моя дорогая, самая хорошая на свете мамочка...» Он сообщал, что кормят их хорошо, что кругом кедр, шишки начинают падать, скоро пришлет нам орехи. Приписал для меня: «Золька, прости за щелчки». (У него одно время была привычка отпускать мне щелчки, проходя мимо). Я помчалась на завод. Вновь, как и в первый раз, встретившие меня женщины проявили полное участие и отправились искать маму. Она выбежала счастливая, окрыленная... Каким-то чудом узнала адрес воинской части. На работе вошли в ее положение, отпустили на четыре дня. И вот мы уже в Хабаровске. Поезд на Завитуху – только через пять часов. Забежали к тете Насте. Она пекла блины, ловко подбрасывая их на сковородке. Поохала, глядя на меня: «Как подросла! Не узнать». Телефонов не было, но уже через час в комнату входили тетя Дуня, тетя Ариша, отцов брат Илья (мой отец трагически погиб, когда мне было всего четыре месяца) и немало родственников, не знакомых мне. Тети были величавые, красивые, с тяжелыми пучками волос на головах, сердечные. Родня моя по отцовой линии – из молокан. (Недавно слышала по телевизору, что глава Австралии, говоря о подъеме сельского хозяйства в стране, очень высоко оценил в этом роль именно молокан, выходцев из России. У меня же о молоканах, которых немало было в Амурской области, с детских лет сложилось представление как о людях целомудренных, непьющих, благопристойных).
«Золюшка, посмотри на дядю Илью, это точная копия твоего отца», – говорит мама. Вглядываюсь в дядю Илью. Могучий, синеглазый, с пушистыми бровями и волнистыми русыми волосами. Лицо мужественное и доброе – мужчин с такими лицами и такого телосложения я, кажется, впоследствии только на Дальнем Востоке и встречала. Тети и дяди натащили подарков для нашего новобранца: теплые носки, шапку-ушанку на медвежьем меху, душегрейку и даже кальсоны из чистой шерсти (контрабанда из Японии). Тети наскребли по сусекам муки и напекли душистых пирожков с черемухой. Угостили только меня, десятилетнюю девочку, остальное – для Сергуньки. Дядя Илья сопроводил нас до места, и сразу назад. Следующий поезд до Хабаровска отправлялся только через двое суток. Опоздание на работу строго каралось.
На станции – хорошо это помню – пахло медом. Его продавали на скудном привокзальном рынке, больше не было ничего. Мама купила целое ведро меда, и мы на попутной машине отправились искать воинскую часть. Разве можно описать чувства матери, только что отправившей сына на войну? Скорее обнять своего мальчика, прижать к сердцу свою кровиночку, приголубить, защитить. Но защитить невозможно... От тебя уже ничего не зависит...
Наконец мы въехали в воинскую часть. Из столовой пахло щами (прошу простить, что из того времени у меня осталось много гастрономических воспоминаний). Мама ждала, что сыночек выбежит к ней. Из столовой один за другим выходили мальчишки. Увы! Дежурный командир (слово «офицер» еще не использовали, считая белогвардейским) откозырял и сообщил: «Вчера отправили на фронт». По лицу мамы потекли слезы.
Мед и пирожки мы оставили в воинской части.
Командир вызвал машину. Нас отвезли на вокзал, точнее, на то место железной дороги, где вдоль путей сидели очередные солдатики, ожидавшие погрузки в товарные вагоны. Мы расположились рядом. Один из мальчишек, подумав, что я голодна (так и было), развязал вещевой мешок, вытащил оттуда ломоть хлеба, щедро намазал маслом и протянул мне. Мама подарила рукавицы нашему благодетелю. Встрепенулась: «Дома нас, небось, письмо ждет!» Оживилась, даже похорошела от этой мысли-надежды. Купила еще ведро меда. Подошел паровоз, пыхтя и выпуская черный дым. Ввагоне сидели женщины, также искавшие своих мужей и сыновей. Те, кому это удалось, казались особенно несчастными, потрясенными прощанием, быть может, навсегда.
В Хабаровске, не заходя к родным, мы пересели на такой же поезд. Ехали весь день мимо нанайских селений. На остановках нанайцы в расписных одеждах и в сопровождении пушистых Шариков продавали по дешевке унты, шапки-ушанки, копченую кету, медвежье сало, которое славилось целебными свойствами, кедровые орехи. На одном полустанке предлагали сироту-медвежонка. За окнами тянулась бесконечная тайга, где нет-нет, да и мелькал какой-нибудь зверь.
А в нашем Комсомольске продолжал сохраняться порядок. К прибытию поезда приходил автобус. Мама пребывала в боевом настроении. Два квартала от остановки с ведром меда и оставшимися дарами от тетей и дядей мы преодолели пешим ходом. Дома – то же распашное зеркало и кровать с затейливым изголовьем. Но как-то пусто. Весточки от брата не было... И вдруг за окном увидели почтальонку, помахивавшую письмом! С радостью, но и тревогой встречали тогда в тылу вести с фронта. Сергунька писал перед отъездом, в спешке. Но самое главное успел передать – нежность и любовь к матери и ко мне, последышу: «Золька, береги маму...»
Репродуктор на улице голосом Левитана вещал об упорных боях, сбитых самолетах врага и оставленных нами городах. Уже наступал голод. Картошку жарили на олифе, чай пили с глицерином. Изобретательные хозяйки своими кулинарными открытиями щедро делились с соседями и знакомыми. Но и олифа вскоре исчезла из хозяйственных магазинов, глицерин – из аптек. Началась героическая эпопея женщин. Солдатские матери и жены корчевали пни и кустарники, отвоевывая у тайги участки под огороды, рыхлили кирками землю в черте города, под окнами, где сажали огурцы, помидоры и капусту. А далеко за городом, километров за семь, выращивали картошку. Бывало, накопаем несколько мешков картошки и сидим на них всю ночь, дожидаясь машины. Завод выделял одну на всех. Ночи становились холодными, мы околевали, сидя на мешках, вглядываясь в темноту, – когда же мелькнут долгожданные фары?
Мама сама, без «гастарбайтеров», смастерила погреб. Радовалась, что землю не пришлось далеко таскать: под окном разбили огород. Пригодилась земля. Мама купила козу и пять кур. Наша коза Майка была грациозной, жизнерадостной, а в смысле питания щепетильной до аристократизма. Она щипала только целебные травы – ромашку, пустырник, хвощ. Поэтому и молоко у нее было целебным. Мы с ней стали неразлучны. Не раз бывало: идет урок (школа – рядом, наш класс – на первом этаже), за окном появляется преданная Майка, пристально смотрит на меня и на своем козьем языке зовет домой. Во время перемен шкодливая коза иногда забегала в класс и принималась прыгать по партам (а мне потом «орешки» убирать). Однажды утром мама сообщила мне: «А у нас радость». Даже белую блузу по такому поводу надела. Я увидела еще не обсохшее существо на дрожащих копытцах. Новорожденный козленок качался от слабости, но уже пытался взбрыкивать и бодаться. На время горести военных лет стушевались. Молоко, яйца, душистые куриные супы, мед создавали иллюзию сытной жизни.
Радость наша, к сожалению, оказалась недолгой. Однажды мама после ночной смены вошла в сарай, а там – ни кур, ни козы, ни козленка. Только следы крови и куриные перья. Сказать, что мы горевали, – ничего не сказать. Война не впускала в наши дома ни крупицы счастья...
Пошли грибы, они стали спасать нас от голода. Пни были усыпаны опятами, на сопках – грузди. Мама, приходя с работы, сразу садилась за швейную машинку. Из старых тулупов шила душегрейки, распускала старые кофты и вязала теплые носки. И все глядела на тропинку за окном. И вот пришло письмо от Сергея, но что в нем! Красным карандашом брат написал: «Завтра в бой». И много раз подряд: «Прости». За что он все просил прощения?! В ту ночь мама совсем не спала. Сшила еще унты из рукавов старого тулупа. Сама смастерила ящики, в которые, помимо своего рукоделия, вложила библии и пожелания: не простужайтесь, берегите себя. На таких посылках указывался краткий адрес: «На фронт».
Однажды, придя из школы, я взглянула на зеркало и увидела точку с расходящимися трещинами-лучиками. В произошедшем заподозрили меня – это было обидно. Полностью оправдаться мне так и не удалось. Стали ждать беды. И она не замедлила: пришло извещение, что Сереня пропал без вести в битве за Москву. Сбежались соседки, стали успокаивать, мол, это не похоронка, сын где-нибудь в госпитале, в плен мог попасть. Мама продолжала надеяться. Каждый день, когда она не была на заводе, отрываясь от машинки, пристально вглядывалась в появлявшуюся за окном почтальонку. Та только разводила руками и шла дальше, неся кому – радость, а кому – беду. В полдень нередко где-нибудь раздавался стон или крик – почтальонка приходила в это время.
Между тем у нас появился новый сосед. Пришел на костылях – имел бронь по инвалидности. Поставил костыли в коридоре и больше ими не пользовался. Человеком он оказался малоприятным, но речь не о нем. Сосед раздобыл где-то медвежонка и поселил на нашей общей кухне. Косолапый малыш покорил мое сердце. Часть пищи, которую оставляла мне мама, уходя на работу, скармливалась ему. Он ценил это. Часами медвежонок боролся со мной и с собачкой, которая любила участвовать в этих затеях. Жильцы дома практически перестали пользоваться кухней. Медвежонок рос не по дням, а по часам, начал сердито рявкать на тех, кто доставлял ему беспокойство. Но наши с ним отношения складывались наилучшим образом. Потом меня вопреки моему желанию отправили в летний пионерский лагерь, расположенный на другом берегу Амура у подножия сопок. Когда смена окончилась, нас на катере перевезли на наш берег и оставили дожидаться автобуса. Мне так не терпелось повидаться со своим другом, что я, прихватив узелок, пустилась в город бегом (предстояло преодолеть три километра). Вбежала в дом и обнаружила на кухне свирепо рычавшего зверя. Худ он был невероятно, вырос, едва ли прибавив в весе, одичал. Однако узнал меня и стал ласкаться. Страха почему-то я не испытывала. Мишка мусолил мои волосы, прикусывал уши, нос, словно успокоившись, что беды его позади и теперь все будет хорошо. В нашей комнате на столе меня дожидались вареная молодая картошка, жареные грибы и краюха хлеба. Всю эту снедь я смазала медом и отнесла ему. Мишка сначала слизал мед, а потом проглотил все остальное. Тут же объявился Шарик, его старый партнер по борьбе. Но поиграть у них не получилось, поскольку разница в габаритах стала слишком велика. Мишка сгреб его одной лапой, повалил и равнодушно отвернулся.
А через пару дней мимо нас проводили колонну пленных немцев. Они шли длинной вереницей, охраняемые красноармейцами, под взглядами женщин и стариков, у многих из которых на фронте погибли близкие. Пленные казались похожими друг на друга. Мы представляли себе фашистов грозными и жестокими. А эти – жалкие, вызывающие скорее сочувствие, чем гнев. Толпа безмолвствовала. И вдруг появился наш сосед с медвежонком на цепи. Этот симулянт, уклонявшийся от призыва на фронт, ворвался в первую линию пленных и стал избивать их костылем. Дальше случилось невероятное: медвежонок кинулся на своего хозяина! С трудом при моем участии удалось успокоить мишку и вернуть его домой. С этого дня он уже не подпускал хозяина к себе. Я ставила перед ним пищу – приносила жидкую похлебку из детского сада, делилась хлебом. Через несколько дней, вернувшись из школы, узнала, что медведя отдали в дом пионеров. Пошла туда его проведать. Мишка сидел за оградой, привязанный цепью к столбу. Я направилась к нему. «Девочка, куда ты?» – кричали мне в ужасе посетители зверинца. Они же не знали, что мы с ним друзья. Несчастный пленник по нашему ритуалу мусолил мои волосы, сопел в ухо, словно уговаривая вернуться домой. Потом его увезли в Хабаровск, в зверинец. Мама по моей просьбе написала дяде Илье – дескать, узнай, как там медведь из Комсомольска. Дядя Илья ответил: да, есть такой, и обращаются с ним хорошо. Якобы зверь даже добродушно протягивал ему лапу. В последнее мне не особенно верится, и вот почему.
Мой хабаровский дядя (мама рассказывала) с детства относился к медведям, мягко говоря, настороженно. Однажды они с братом, опытным охотником (моим отцом), отправились в тайгу. И там на Илюшу напал медведь. Отец убил зверя. Добытую им тогда роскошную медвежью шкуру я видела перед самой войной в доме у тети Дуси в Благовещенске. Мама не стала забирать тяжелую шкуру, когда переезжала в Комсомольск. Потом очень жалела – память об отце. А Илюша после пережитого испуга долго не говорил. Вновь он обрел дар речи, увидев моего отца, вернувшегося с германской войны. Отец стоял на другом берегу реки, ожидая парома. Илья крикнул, заикаясь: «Ми-ми-михаил!» Потом вылечился и от заикания.
...Первозданная дальневосточная природа помогала семьям, оставшимся без мужчин, выживать.
На нерест приходила кета – в те протоки, где сама появлялась на свет. Тогда рабочих с завода бросали на заготовку рыбы и икры. На фронт отправлялись бочки с надписью: «Все для фронта, все для победы». Кета не считалась в наших краях деликатесом: люди сами спасались от голода, и домашних животных ею кормили (мы с мамой выхаживали израненного котенка, отбитого у собак).
Помню, пришли с мамой к речке Силинке, притоку Амура. Захотели помыть руки, освежиться. А в реке кишмя кишели раки. Опустили в воду веточку и вынули ее с гирляндой из раков. В пищу их не употребляли, считали чем-то вроде крупных насекомых.
Но пришла новая напасть: неизвестные лиходеи стали шарить по огородам, вырывать с корнем кусты и картошку, губить урожай. Жаловаться в милицию было не принято. Что наш тыл с его бедами по сравнению с фронтом? Женщины устроили засаду и поймали одного из жуликов. Поступили с ним жестоко, но справедливо. Сняли с него одежду, обмазали медом, привязали к дереву. Через сутки его тело превратилось в черный шар. После этого случая набеги на огороды практически прекратились.
Май 1945 года. Я на огороде. Между участками межа почти целинная, на ней – ландыши, крупные, душистые. Домой всегда уходила с ароматной охапкой... Бежит мама: «Золенька, победа, война окончилась!» Это была радость для многих воистину со слезами на глазах и рыданьями.
Нас, школьников, отправили в Амурскую область на рисовые поля. Там на станции Завитая мы увидели длинную вереницу танков. Начиналась война с Японией. Солдатами в большинстве своем были те же мальчишки, но уже следующего поколения, сыновья и младшие братья погибших героев. В одном из танков находился сам командующий фронтом маршал Малиновский. Это как-то стало известно. Мы побежали посмотреть на него. Увидев ребятню, он вышел познакомиться. Помню улыбку на его мужественном лице. Подозвал вожатую, расспросил, откуда мы и куда направляемся. Передал ей большую банку со сгущенкой и еще несколько банок тушенки в большом пакете.
И вот мы на месте. Работать приходилось, стоя почти по пояс в холодной воде. Зелень риса очень похожа на траву пырей. Но мы научились отличать одно от другого и всю плантацию привели в порядок. Через несколько месяцев в школу пришла благодарственная телеграмма: на «нашей» плантации собрали необычайно высокий урожай. Правда, не обошлось без ЧП: две девочки во время работы вдруг потеряли сознание. Как потом оказалось, как раз в тот день на Хиросиму американцы сбросили атомную бомбу. На обратном пути на станции Завитая мы опять увидели множество военных. Теперь здесь царило ликование – музыка, пляски. Один солдат отплясывал в кимоно.
А в наш город стали прибывать японские военнопленные. Их селили в бараки, где прежде содержались политические. Соседка работала там санитаркой. Она рассказывала, что японцам приходится нелегко: от непривычной пищи они страдали желудками, да и мерзли сильно под легкими одеялами. Но когда проходил первомайский праздник, японцы в нем участвовали и с энтузиазмом пели: «Расцветали яблони и груши...» Менее приятную картину наблюдали мы с подружкой, когда однажды направлялись в баню. По дороге следовала колонна японцев в оцеплении красноармейцев. Вдруг – крики, переполох, все смешалось. Оказалось, один из пленных с ножом напал на конвоиров, а потом сделал себе харакири. Совершенно необычная встреча с японцами была у меня в Советской Гавани, куда мама поехала по делам и я с ней. Я с двумя ведрами отправилась собирать ягоды на сопки. Подошла к одной горе – высокая, трудно подняться. Остановилась в раздумье. Тут послышалась чужая речь, из леса на поляну вышла группа японцев. Ее возглавлял хорошо одетый, невысокий человек почти европейского вида. Он приказал своим остановиться и приблизился ко мне. Узнав, что я немного понимаю по-английски, принялся объяснять, что он из Токио, очень скучает по своей mother и своему father – владельце шхуны. Затем дал команду остальным японцам, и они принялись собирать ягоду в мои ведра! Потом еще и помогли донести полные ведра почти до дома. Мама объяснила, что пленные японцы часто ходят без охраны. Бежать ведь невозможно: на востоке – океан, а на западе – тайга, где легко стать добычей тигра.
По выходным дням в Комсомольске на стадионе отмечали Победу. Женщины к этому событию тщательно готовились. Зубным порошком натирали тряпочные тапочки – более роскошной обуви не было. И спешили на торжество. На стадионе гремели неизменные «Широка страна моя родная», «Сталин дал приказ», «Катюша» в исполнении военного оркестра. На обратном пути тапочки женщин уже не сверкали белизной, этого покрытия хватало примерно на час.
С фронта стали возвращаться мамины племянники. Один из них, Николай, потерял ногу. Друг Сергея Толька, весельчак и когда-то красавец, вернулся с лицом, изуродованным ожогом; он горел в танке. А мама все писала и писала в разные инстанции, искала следы сына. Даже Жукову отправила письмо. Из его канцелярии пришел ответ: постараемся помочь. Но – увы! Позже, когда я училась в Москве, часто стояла у Могилы Неизвестного Солдата в уверенности, что здесь лежит мой брат, погибший под Москвой. И мама была в том уверена.
Свою дочь я назвала в честь матери Татьяной, а сына – Сергеем. Когда мама приехала к нам и увидела внучат, она стала такой счастливой! Разглядывая внука, говорила: «Копия нашего Сергуни, только посветлее».
ИЗОЛЬДИЯ ИВАНОВА